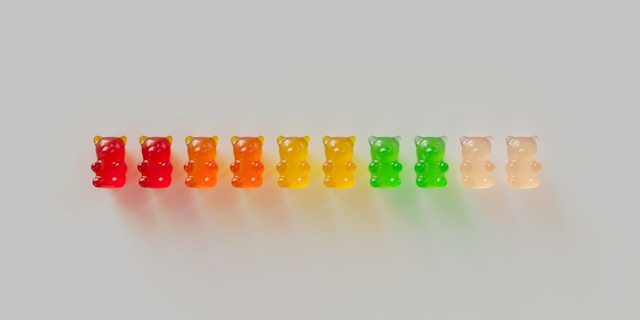Клоны захватывают наш мир. Там и тут мелькают удивительные новости: ученые собираются клонировать динозавров, Эйнштейна, а однажды клонируют и нас с вами. А вдруг злые клоны займут наше место?
Скажу по секрету: они давно среди нас! Не будем пугаться. Лучше давайте вместе с ними разберемся. Клоны среди нас Не стоит судорожно оглядываться по сторонам. Клон — не всегда злобный монстр, созданный для захвата мира. Для многих живых организмов клонировать себя так же обыденно, как для нас дышать, ходить, прыгать. Папы и мамы не всегда одинаково участвуют в создании новой жизни. Иногда живое существо решает проблему размножения самостоятельно — и тогда потомок является его идентичной копией, а по-простому — клоном. Например, когда бактерия делится — она клонирует себя. Невероятно, но когда вы помогаете родителям на даче — вы тоже участвуете в клонировании! Размножение земляники усами, картошки кусочками клубней, чеснока луковицами — это далеко не полный список манипуляций по клонированию, назубок освоенных дачником со стажем. А человек? В природе есть и такие случаи: удивительно похожие друг на друга однояйцовые близнецы — результат деления одной зиготы, тоже клоны друг друга! Но все это — естественные процессы. Тогда как же ученым удается клонировать организмы, не способные «на раз-два» создавать свой клон?
Во всем виноваты гены
Как вам известно, за хранение, передачу и реализацию наследственной информации отвечает ДНК, находящаяся в ядре клетки. ДНК содержит гены, которые кодируют различные признаки, будь то, например, голубые глаза или способность переваривать молоко. Каждый ген в организме присутствует в двух копиях — от мамы и от папы. Родительские гены объединяются (рис.2), когда образуется зигота — результат оплодотворения материнской яйцеклетки сперматозоидом (рис.1). Зигота (рис.3) — одноклеточный зародыш, который, делясь, дает начало многоклеточному организму. Сначала в зиготе работают все гены, а потом, по мере её деления, некоторые гены отключаются. Так, в каждой клетке нашего организма есть гены, отвечающие за синтез желудочного сока, но, к счастью, работают они только в клетках желудка. Выключая ненужные гены, клетки приобретают свои специфические функции, например — способность переносить кислород или проводить нервный импульс.
220 видов клеток в человеческом организме, но все они имеют одинаковый набор генов, потому что произошли от одной зиготы. Это в 1962 году доказал Джон Гёрдон. Ученый взял икринку лягушки, разрушил её ядро и поместил туда ядро клетки кишечника другой лягушки. В результате из модифицированной икринки развился нормальный головастик. Эксперимент доказал, что ДНК одной клетки достаточно для воссоздания целого организма. 2012 год — результаты Джона Гёрдона положили начало эре клонирования животных, а за свои заслуги в году ученый был удостоен Нобелевской премии.
My name is Dolly!
Самая знаменитая в истории овечка родилась 5 июля 1996 года. Долли была первым теплокровным животным-клоном, полученным из ядра взрослой клетки тела. Как вы помните, в естественных условиях организм сочетает материнские и отцовские гены. Если наше генетическое сходство с каждым из родителей составляет 50 процентов, то Долли оказалась на 100 процентов идентична овце, чьё ядро было использовано. Её создатели Ян Вилмут и Кит Кэмпбелл взяли ядро клетки молочной железы овцы (на тот момент уже умершей) и поместили его в яйцеклетку с удаленным ядром. Модифицированная яйцеклетка была выношена овцой-суррогатной матерью. Родившегося ягненка решили назвать Долли в честь певицы Долли Партон.
Надо сказать, перенос ядра — травматичная для ядра и яйцеклетки процедура. Рождению Долли предшествовали 277 неудачных попыток получения жизнеспособного эмбриона. Несмотря на то, что Долли родилась здоровой и родила шестерых ягнят, на седьмом году жизни она заболела тяжелой вирусной инфекцией, и ее решили усыпить. Обычно овцы живут около 10 лет, поэтому ученые считают, что причина ранней смерти Долли — повреждения ДНК, полученные при клонировании. Кроме того, фактический возраст Долли был больше реального. Закрепленные в ДНК биологические часы неумолимы: клон рождается настолько же старым, что и оригинал в момент взятия ядра. Эксперимент с Долли доказал, что при наличии генетического материала можно клонировать млекопитающее, даже если его уже нет в живых. После Долли сообщения о клонах стали появляться одно за другим: клонировали мышей, свиней, коров, лошадей… Начался всемирный генетический бум.
КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА РАЗДЕЛЯЮТ НА ДВА ВИДА:
1.
Терапевтическое клонирование предполагает создание тканей и органов из клонированной клетки взрослого человека. Сегодня, когда тысячи пациентов умирают, не дождавшись донорских органов — это одно из самых многообещающих направлений в медицине.2. Репродуктивное клонирование делается с целью создания человеческого клона. Во многих странах мира эксперименты в этом направлении запрещены.
Динозавров на родину
Идея о возвращении вымерших видов с помощью клонирования еще совсем недавно была научной фантастикой. Однако теперь — после стольких клонированных животных, что нам мешает вернуть к жизни, например, динозавров? Теоретически такое возможно, но для этого необходимо найти целую ДНК животного. Проблема в том, что ДНК — молекула хрупкая. Под влиянием окружающей среды она распадается на фрагменты. Ученые выяснили, что каждый 521 год количество ДНК сокращается на половину, а последние молекулы ДНК исчезают из костной ткани примерно через 6,8 миллиона лет.
Но динозавры-то вымерли 65 миллионов лет назад! Не будем отчаиваться. Пусть динозавров мы вернуть пока не можем, однако можно попробовать вернуть тех, кто вымер не так давно. Ученые всерьез обсуждают возможность возвращения шерстистого мамонта, птицы додо, странствующего голубя и других, казалось бы, навсегда потерянных животных. А еще использование клонирования может сохранить исчезающие виды. Биологам из Нового Орлеана первыми в мире удалось получить здоровое потомство от пары неродственных клонированных животных — диких африканских кошек. Оказывается, клоны способны к естественному размножению! По всему миру создаются банки хранения ДНК животных, занесенных в Красную книгу. Ученые надеются с их помощью восстановить численность исчезающих животных. Получится или нет — время покажет.
Куда мы КЛОНим
Человек не только набор его генов. Вы не понаслышке знаете, как могут быть не похожи люди, выросшие в одной семье, вспомните своих братьев и сестер. Большой вклад вносит и окружающий мир — школа, круг интересов, друзья… Клон человека будет всего лишь генетическим дублем оригинала. Ведь даже естественные клоны — однояйцовые близнецы, не являются точными копиями друг друга. У них отличаются родинки, линии на ладони, есть небольшие различия в чертах лица. Когда эксперимент с Долли показал, что умерший организм может быть клонирован, появились желающие клонировать ушедших родственников и великих людей. Эйнштейн №2, например, очень бы помог современной науке! Но клон не повторит свой оригинал «дословно». Это будет новый человек, со своим характером и судьбой, потому что он попадет в другое окружение, станет участником других событий. Он не будет знать ничего из того, что знал оригинал. Можно создать клона Эйнштейна, но как сделать его Эйнштейном? Вот в чем вопрос. Клонирование воспринимается неоднозначно. С одной стороны, с его помощью мы можем спасти исчезающих животных, создавать органы и ткани для трансплантации и дать возможность бездетным парам стать родителями. С другой — клонирование ставит перед человеком множество вопросов: можем ли мы изменять природу? Где грань, которую нельзя переступать? Какие последствия будут иметь наши действия? Что делает нас человеком? Однозначных ответов у нас пока нет.
Так все-таки, смогут ли клоны занять наше место? Кроме разницы в характере, клон будет отличаться от вас еще и разницей в возрасте. Как и всем людям, клону потребуется девять месяцев, чтобы родиться, и 18 лет чтобы достичь совершеннолетия. Так что перепутать будет сложно. Это семейство круглых червей-паразитов называют еще нитчатыми: при длине до 45 см они обладают толщиной около 0,3 мм. Филярии — не самые приятные создания. Переносят их двукрылые насекомые, но хозяева, вскармливающие нитчатых — позвоночные, особенно, люди в тропическом поясе: Африке, Азии, Южной Америке, островах Тихого океана. При укусе насекомого личинки паразита попадают в ранку и дальше мигрируют по организму до мест обитания, которыми чаще всего выступают полости тела, лимфатические сосуды, кожа и подкожная клетчатка. Здесь они линяют и превращаются во взрослых особей, живущих до 15–17 лет.
Половозрелые самки рождают в день до тысячи живых личинок — микрофилярий, которые проникают в периферические кровеносные сосуды и кожу, где ими вновь заражаются кровососущие насекомые. Наиболее неприятны несколько видов филярий. Один — Onhocerca volvulus, лакомящийся только людьми, невелик собой — 2–4 см, но весьма опасен. Он поражает глаза и кожу, где микрофилярии вызывают сильное воспаление, особенно при своей гибели. Во многих случаях это приводит к полной потере зрения. Этим заболеванием — онхоцеркозом или речной слепотой в мире страдает около 18 млн человек, преимущественно в Западной и Центральной Африке.
Чуть большие по размерам черви Wuchereria bancrofti и Brugia malayi приводят к еще более впечатяющим последствиям. Их микрофилярии паразитируют в кровеносных сосудах, а взрослые особи — в лимфатических, вызывая их воспаление, болезненное разрастание кожи и подкожной клетчатки, соединительной ткани и костей. Это приводит к чудовищному увеличению ног и мошонок, которые начинают напоминать слоновьи, откуда болезнь и получила название слоновой — элефантиаза. Этими червячками в мире инфицированно около 80 млн человек.


Сатоси Омура предположил, что у филярий могут быть враги в естественной среде обитания — водоемах, где обитают их переносчики — кровососущие насекомые. Его подозрение пало на бактерии рода Streptomyces, ранее уже осчастливевшие человечество множеством антибиотиков, за один из которых — стрептомицин, излечивающий туберкулез, уже была дана Нобелевская премия по медицине и физиологии в 1952 году. Но задача оказалось не такой уж легкой: в этом роду микроорганизмов более 600 видов, поэтому ученому потребовалось немало времени, чтобы из множества проб воды и почвы отобрать 50 наиболее перспективных культур. Его американский коллега — профессор Уильям Кэмпбелл — нашел вещество, выделяемое одной из этих культур и весьма эфффективное в борьбе с паразитами у сельскохозяйственных животных, которое по имени бактерии — Streptomyces avermitilis — было названо авермектином. На его основе была создана более сильная химическая модификация — ивермектин, прошедшая клиинические испытания на людях и внесшая важнейший вклад в борьбу с филяритозами. Программа по борьбе с онхоцеркозом велась с 1974 года в основном распылением инсектицидов для уничтожения личинок мошек-переносчиков. В 1989 году эта программа дополнилась применением ивермектина, что позволило излечить 40 млн человек. В 2013 и 2014 годах ВОЗ признала Колумбию и Эквадор соотвественно странами свободными от онхоцеркоза. Победа над этой болезнью в Африке, а также над эфантилиозом еще впереди.
Человек заражается плазмодиями от самок малярийных комаров, попав в кровь спорозиты (так называется одна из стадий жизненного цикла возбудителя) проникают в гепатоциты печени, где происходит их бесполое размножение. Каждый спорозит превращается в шизонта, из которого в итоге образуется от 2 до 40 тыс печеночных мерозоитов. Они через несколько недель выходят из печени в кровь, где прикрепляются к специфическим рецепторам на поверхности мембран эритроцитов. У человека массовое размножение одноклеточных паразитов приводит к лихорадке, ознобу, сильным головным и суставным болям, смерти. Первое эффективное лекарство от малярии стало известно европейцам с открытием Нового света. Привезенная католическими монахами кора хинного дерева еще долго называлась иезуитской корой. В 20 веке были синтезированны более эффективные альтернативные вещества: акрихин, хлорохин, примахин, но вскоре пришлось вернуться к использованию известного издревле хинина — появились штаммы плазмодий, устойчивые к новым лекарствам.
Не меньшую живучесть проявили и малярийные комары, приобретающие все большую устойчивость к инсектицидам. Эффективную вакцину от малярии до сих создать не удалось. Ведутся работы по созданию генномодифицированных комаров, устойчивых к паразитам, которые могли бы вытеснить в природе традиционных разносчиков, но говорить об их практическом применении пока рано.
Одним из наиболее страдающих от малярии регионов не так давно был Южный Китай. Поэтому в 1967 году в Китае был запущен проект по поиску лекарств от этого заболевания, в котором участвовало 500 исследователей. Половина из них занималась синтетическими препаратами, половина — рецептами традиционной китайской медицины. Обращение к ней было не случайным — первые летописные свидетельства лихорадки, вызванной малярией, датируемые приблизительно 2700 годом до н. э. были обнаружены в Китае.
Нынешняя лауреатка Нобелевской премии Юю Ту стала руководителем группы при Пекинском университете, занимавшейся народными рецептами. Она вместе с коллегами объездила весь Китай, собрав более двух тысяч традиционных рецептов и испытала на лабораторных мышах 380 экстрактов трав и растений. В качестве лекарства в древних книгах часто упоминался экстракт Artemisia annua — полыни однолетней, которая впервые встречается еще в трактате «52 рецепта», написаном около двух тысяч лет назад и обнаруженном в мавандуйских погребениях. Однако помогал экстракт не во всех случаях. Найти решение Юю Ту помогло дальнейшее изучение старой литературы: в рецептах Гэ Хонг 340 года н.э. она обнаружила описание метода получения экстракта полыни не кипячением, а холодным отжимом. Полученный экстракт смог полностью уничтожить паразитов в крови мышей и обезьян. Из него был выделено активное вещество нового класса, названное артемизинином. Во многом благодаря ему с 2000 года, по оценке ВОЗ, смертность от малярии в мире снизилась на 47%, а в Африканском регионе на 54%.