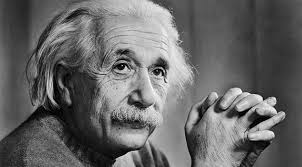РЕВОЛЮЦИЯ 1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
В конце XIX века физикам впору было заскучать. Казалось, все важнейшие законы природы уже известны, и серьёзных открытий больше можно не ждать. Наука уверенно покоилась на фундаментальных теориях, которые описывали все известные стороны вещей: там, где не подходила классическая механика Ньютона, применялись уравнения электродинамики Максвелла… Дело оставалось за малым: сгладить некоторые нестыковки между ними, не слишком серьёзные, но как-то раздражающие. Взять хотя бы скорость света.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ
Однажды у себя на даче во время званого ужина Эйнштейн развлекал гостей игрой на скрипке. Один местный журналист, не знакомый с хозяином и его трудами, спросил у соседа: «А кто же играет?». На что тот удивлённо ответил: «Как?! Это же сам Альберт Эйнштейн!». На следующий день в местной газетёнке, в которой работал журналист, появилась заметка, что на вчерашнем приёме играл знаменитый скрипач Альберт Эйнштейн. Учёный вырезал заметку, повесил на стену, и при удобном случае, указывая на неё, говорил всем: «Вот! На самом деле я знаменитый скрипач!».
Галилей плывёт на корабле Относительность придумал Галилей. «Представьте, что вы плывёте на корабле, в каюте без окон,— рассуждал великий итальянец. — Из бочки капает вода, на столе лежат бумаги, в клетке ругается пиратский попугай. Сможете ли вы сказать, стоит корабль в порту или плывёт по морю равномерно, не разгоняясь и не замедляясь, не качаясь и никуда не поворачивая?.. Вода капает в любом случае одинаково, бумаги всё так же лежат, попугай ругается. Вы можете провести любые эксперименты, уронить кружку на пол, измерить траекторию падения капель — никакой разницы нет».
Принцип относительности Галилея стал одним из краеугольных камней ньютоновской механики. Он позволил понять, что все законы науки действуют одинаково и в покое, и при прямолинейном равномерном движении, «в инерциальной системе отсчёта», как говорят физики. Чтобы перейти от покоящейся системы к движущейся, достаточно учесть скорость, с которой она перемещается. С точки зрения Галилея, в каюте попугай замер в клетке неподвижно. С точки зрения провожающих на причале, он просто движется со скоростью корабля. Но так просто бывает не всегда. Явления электричества и магнетизма, открытые уже позже Ньютона, удалось описать лишь во второй половине XIX века. Движение и взаимодействие электрических зарядов и полей не подчинялись механике — они потребовали своих формул. Вершиной этой работы стали уравнения шотландского физика Джеймса Максвелла.
Но в них появилось кое-что, никак не стыкующееся с предыдущими формулами: скорость света в вакууме. По Максвеллу выходило, что она должна быть постоянной, независимо от того, кто и откуда её измеряет. Если Галилей посветит нам из каюты фонариком, то стоит он у причала или плывёт, уже неважно. Свет вылетит из стоящего судна на той же скорости, что и из плывущего. Эйнштейн едет в трамвае Движемся и мы, ведь мы живём на планете, которая мчится вокруг Солнца со скоростью более 100 тысяч км/ч. Может быть, хотя бы эта солидная скорость повлияет на скорость света? Увы, нет: Альберт Майкельсон и Генри Морли убедились в этом ещё в 1870-х годах. Учёные с предельной точностью измерили скорость движения луча по направлению движения Земли и перпендикулярно ему, но никакой разницы не обнаружили. Скорость света действительно оказалась постоянной.
Получается, что скорость пули, выпущенной с корабля, будет быстрее, чем если бы мы стреляли с неподвижной пристани. А вот свет будет двигаться всегда одинаково. Разве такое возможно?.. Над разрешением этого «небольшого противоречия» работали лучшие умы того времени. Механика Ньютона была проверена сотнями лет практики и вообще выглядела более авторитетной, чем довольно юная максвелловская электродинамика. Поэтому большинство учёных всеми силами пытались «подогнать» уравнения Максвелла под ньютоновскую «классику». Разыгрывались самые изысканные математические партии, но для решения понадобилось пойти в обратном направлении.
«Постойте,— подумал Альберт Эйнштейн,— Может, на самом деле права электродинамика Максвелла, а вовсе не механика Ньютона? Может, скорость света действительно постоянна в любой инерциальной системе отсчёта? Но как такое возможно? Ведь это значит… — говорят, Эйнштейна озарило, когда он ехал в трамвае и случайно взглянул на уличные часы,— Это значит, что если система движется, то в ней меняется время». И это была его первая революция.
Специальная Теория Относительности (СТО), которую Эйнштейн описал в 1905 году, увенчала и классическую механику, и электродинамику. Названа она так неспроста: в основе СТО — галилеевский принцип относительности. Законы природы остаются одинаковы (физики говорят — инвариантны) во всех инерциальных системах отсчёта. Но меняется тот «фон», на котором они действуют. Чтобы сохранить постоянство скорости света, нам придётся пожертвовать неизменностью времени.
Ведь мимо нас свет фонарика будет двигаться все с той же постоянной скоростью. И пока он летел вперёд, водитель успел отъехать на какое-то расстояние, и свету понадобится дополнительное время на то, чтобы его преодолеть. Тогда остановка будет сделана совсем не в том месте, где хотел Эйнштейн — и где в действительности сошёл… Парадокс можно разрешить лишь замедлением времени. Если для нас время быстро мчащегося трамвая будет ощущаться замедленным, то свет успеет добраться до водителя в нужный момент по нашим часам, и Эйнштейн выйдет ровно там, где и хотел. Этот и другие парадоксы СТО многократно подтверждены на практике.
Физики в качестве эксперимента устанавливали сверхточные атомные часы на самолёт, который с большой скоростью преодолевал огромные расстояния. И затем сверяли показания часов, опыты зафиксировали отставание часов, которые были на борту самолёта, от тех, что оставались на Земле. Если не учитывать расхождение во времени между нами и летающими на орбите спутниками систем навигации, ежедневно будет набегать отклонение в доли секунды. Немного, но достаточно для того, чтобы каждый день координаты, которые вычисляются навигаторами, сбивались на несколько метров.
Так в 1905 году Эйнштейн совершил первую революцию, «примирив» механику Ньютона и электродинамику Максвелла, а заодно заложив первый камень в фундамент современной физики. Расчёты, проведённые с помощью уравнений СТО, подтверждаются с огромной точностью, а при небольших скоростях, с которыми мы имеем дело в обычной жизни, просто сводятся к классическим уравнениям Ньютона. Часы начинают слегка отставать даже когда мы едем на велосипеде — просто так слабо, что заметить этого мы не можем.
РЕЛЯТИВИСТСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Эффект специальной теории относительности, при котором в движущемся теле все физические процессы проходят медленнее, чем для неподвижного тела (по часам неподвижного тела):
Знаете ли вы, что этот эффект учитывается в спутниковых системах навигации GPS, в которых за один день возникает разница в 38 микросекунд по сравнению с наземными часами.
РЕЛЯТИВИСТСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ
Чем быстрее движется объект, тем больше становится масса объекта:
Например, при скорости 260 000 км/с (87% от скорости света) масса объекта с точки зрения наблюдателя, находящегося в покоящейся системе отсчёта, удвоится!